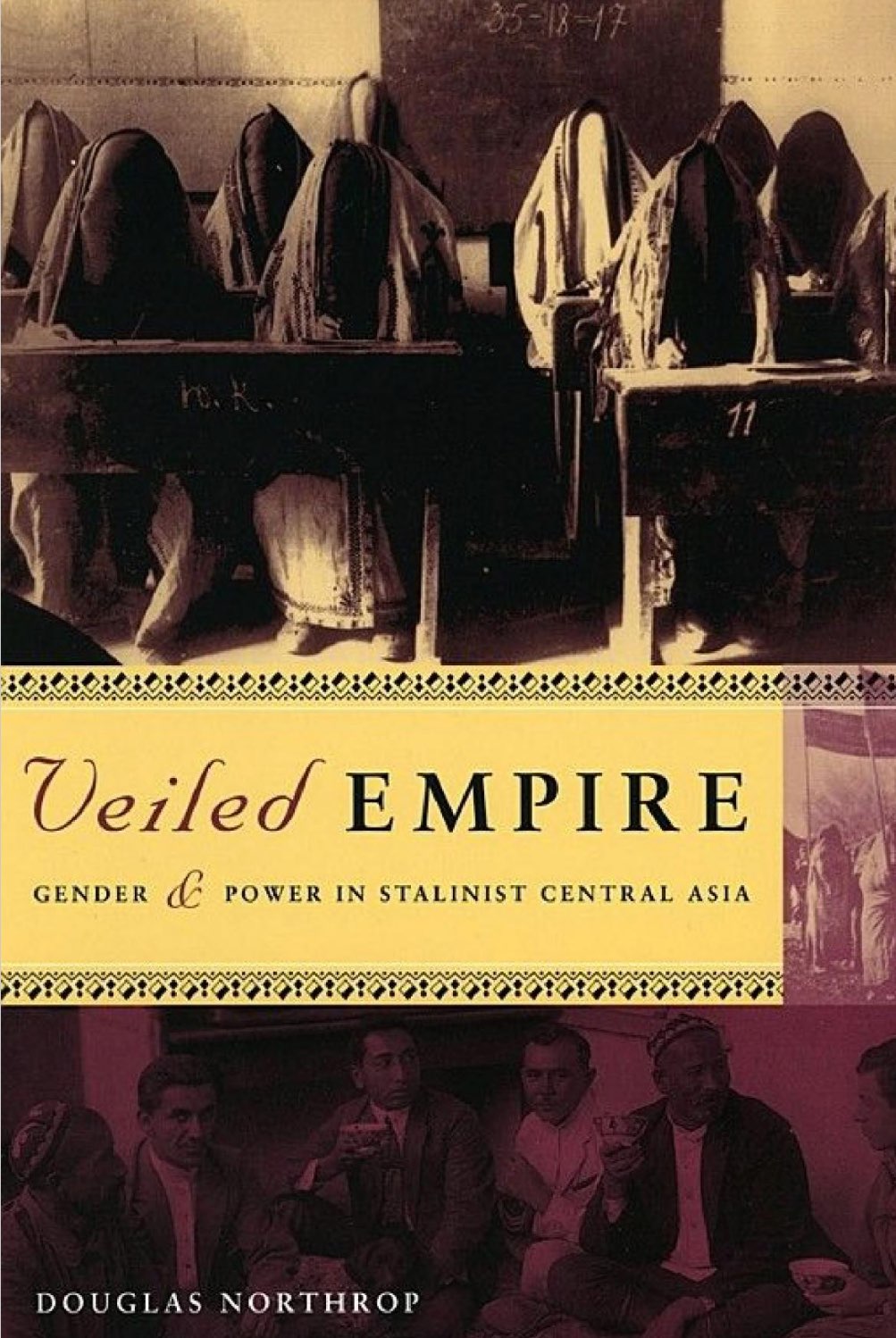Когда запрет не понадобился
Паранджа (или ее отсутствие) выкристаллизовались в маркеры политической нелояльности (или соответственно, лояльности) советскому строю. Достаточно было посмотреть на поведение человека дома, в семье, на улице, в махалле чтобы определить какой он коммунист и насколько искренне привержен коммунистической идеологии. Понятно что это было не единственным способ измерить идеологическую и партийную лояльность. Как и повсюду в СССР, смотрели на классовое происхождение человека, на то насколько он воздерживается от соблюдения религиозных обрядов, на знание марксистской теории и даже на уровень грамотности. Но в Средней Азии с этим всем было особенно туго – микроскопическое количество национального пролетариата, очень слабое знакомство с марксистской теорией, крепко завязанная на исламе местная культура и повальная неграмотность. Неграмотных среди узбекских партийных кадров (!) в 1926 году было 25 процентов и за шесть лет эта цифра упала всего на один процент.
Участие в ритуальных банкетах (тоях), празднование мусульманских праздников (Рамадан, Навруз), преференции оказываемые людям из правильного клана, обрезания сыновьям или посещение празднеств по поводу обрезаний в другой семье – все это ставило напротив имени конкретного узбекского коммуниста жирный минус. Но паранджа стала главным индикатором ценностей семьи. Отказ семьи соблюдать такие советские гендерные нормы как равноправие, моногамия и открытые женские лица обозначал такую семью как подпевал классовых врагов или собственно классовых врагов. А женщина с открытым лицом автоматически переносилась в разряд лояльных. (У Сариддина Айни есть персонаж – байская дочь, которая притворяется что она лояльна советской власти и даже сняла паранджу, а на самом деле делает всякие пакости).
С помощью худжума партия решила, ни много ни мало, провести чистку в собственных рядах. Партиец несогласный с политикой худжума или практиковавший патриархат в собственной семье рисковал вылететь из рядов на раз-два. Начиная с 1928 на каждого коммуниста заводилось дело, куда записывались все подробности его жизни дома и в семье. Ходили по домам, смотрели как люди живут, чем заняты женщины, открыты ли у них лица. Отмечали все, вплоть до наличия в домах европейской мебели и печатной продукции с иллюстрациями – последнее считалось свидетельством того что в данной семье покончили с религиозными предрассудками т.е. забили на запреты мусульманской религии. По результатам таких обходов могли порекомендовать меры для исправления ситуации и наказания если ситуация исправлена не будет. Например:
«Хамиджон Эсханханов, узбек, председатель партийной ячейки в городе Ош. Член партии с 1918, бедный крестьянин, выговоров по партийной линии не имеет. Женат с 1922 года, брак заключен у муллы, жена одна, ребенок один, жена неграмотна, числится в сельсовете, но ничего там не делает. Вынести товарищу Эсханханову предупреждение. Предписать усилить коммунистическое влияние в своей семье и ликвидировать безграмотность жены в течение года».
В результате проверки 1928-1929 годов из рядов узбекских коммунистов вычистили 10% их состава – самых одиозных нарушителей советских гендерных норм. Но уже тогда было понятно, что если применять стандарты правильного советского поведения в семье ко всем партийцам без скидок и поблажек – придется тупо распускать партию.
Кампания проверки и следующих за ней дисциплинарных мер основывалась на аксиоме что большинство узбекских коммунистов – мужчины. По факту так оно и было. К середине тридцатых годов в партию вступили лишь три с половиной тысячи узбечек, то есть две десятых процента. Но несмотря на свое малое число, узбекские коммунистки имели огромное значение как политические фактор и инструмент пропаганды. По факту своего гендера они занимали привилегированное положение в советском порядке и их открытые лица в огромной степени защищали их от политический обвинений со стороны властей. Каждая такая женщина была живой рекламой худжума и укоренизации (политики привлечения в партийный и советский аппарат национальных кадров). Существовали конкретные указания продвигать таких женщин на административные посты.
Надо сказать что входной порог был очень низким. Например во время демонстрации близ Бухары в 1930 женщины сожгли свои паранджи и им всем поголовно раздали заранее заполненные партбилеты со статусом «кандидат ВКП(б)», осталось только личные данные вписать. Лишь у меньшинства этих женщин были навыки необходимые для административной работы. Большинство было неграмотно или малограмотно. Кому-то посчастливилось закончить курсы, которые в зависимости от специальности продолжались от нескольких месяцев до двух лет. На многих рабочих местах требовалось вести документацию и высиживать долгие совещания на русском языке, которого большинство выдвиженок не знало.
* * *
Что же случилось после 1941 года? Насколько советская власть изменила Узбекистан? История не остановилась; семейные отношения и гендерный порядок в Средней Азии продолжали меняться и развиваться и это иногда принимало самые неожиданные формы. Можно с уверенностью сказать что к началу гитлеровского вторжения в СССР советкая власть не добилась цели которую себе же поставила – не принесла фундаментальных изменений в семейную жизнь населения своих мусульманских колоний, по крайней мере не в том масштабе в каком хотела бы. Но к началу шестидесятых ситуация резко изменилась. Те иностранцы которым удавалось побывать в Узбекистане отмечали что население сильно советизировано. Большая часть жителей Узбекистана обоего пола говорили по русски каждый день, по крайней мере на работе. Уже никто не сталкивался с отторжением общества, если выпил водки или закусил харамной советской колбасой. Женское затворничество практически исчезло, а паранджа превратилась в музейный экспонат. Женщины массово работали и часто жаловались на «вторую смену» по дому, точно так же как москвички или одесситки. После землетрясения 1966 Ташкент отстроили как современный советский город (пусть и с элементами среднеазиатского колорита) и многие махалли прекратили свое существование.
Скорее всего фундамент под эти изменения был таки заложен в 1930-ые. Массовая пропаганда – все эти шествия, листовки, киножурналы, сжигания паранджей – отпечатались в сознании подрастающего поколения. Но без последующих социальных изменений об этих явлениях все бы забыли. В те же тридцатые годы традиционный гендерный порядок, включая паранджу и затворничество, стал для многих узбеков привлекательным, в качесте способа продемонстрировать верность исламу и оппозицию советской власти. Даже джадиды (местные социал-демократы и просвещенцы еще царских времен) были дискредитированы в глазах населения тем что большевики продвигали их гендерные инициативы.
Возможно самая большая ирония во всей истории государственной борьбы с паранджой в том что паранджа практически исчезла как только государство было вынуждено отвлечься на более серьезные проблемы. Я попробую выделить несколько факторов которые способствовали советизации узбекского общества в военные и послевоенные годы. В начале сороковых в Узбекистан приехали миллионы эвакуированных, советских и иностранцев (в основном граждан Польши). Туда же следует добавить депортированные «наказанные народы», например корейцев и крымских татар. Все эти миргации изменили демографию Узбекистана больше чем восемьдесят лет царской, а потом советской колонизации. Межкультурные контакты стали нормой, даже за пределами больших городов. Тысячи сирот нашли приют в узбекских семьях и никто не смотрел на национальность.
За военные годы в Средней Азии появилось больше промышленных предприятий чем за три предвоенные пятилетки. Часть было эвакауировано из западных областей СССР, часть построили на месте. Такие предприятия требовали огромного количества хотя бы минимально образованных людей. Невозможно было их всех привезти из России, а значит требовалось массово обучать местных. И собственно война изменила людей, хотя изменения в сознании конечно труднее посчитать чем демографические изменения. Многонациональный Узбекистан несколько лет жил в состоянии «все для фронта, все для победы» и из этого сформировалась новая коллективная идентичность. В первый раз в истории Москва успешно провела в Средней Азии массовый призыв в армию. (Когда в первую мировую царское правительство попыталось призвать жителей Туркестана на тыловые работы, дело закончилось массовым восстанием и бегством заграницу, призыв был практически сорван. В комментариях ссылка на прекрасную песню тех времен «Самал-Тау» в современном исполнении). В советскую армию было призвано полтора миллиона узбеков, из которых около 420000 погибло. Миллион ветеранов вернулась в Узбекистан другими чем ушли. Как и в любой многонациональной империи, служба в армии стала для представителей национального меньшинства фактором эмоционально связывающим их с метрополией, ее культурой и языком. До сих пор 9 мая отмечают в Узбекистане с размахом и искренне чтят ветеранов. И наконец советская власть успешно прервала цепь передачи культурных ценностей из поколения в поколение, забрав себе монополию на школьное образование. Те сторонники старых порядков кто не был репрессирован и не бежал в Афганистан, уходили со сцены по естественным причинам. Выросло поколение которое уже ничего не знало кроме советской власти.
Понятно что узбеки не оставили все обычаи которые кажутся европейцам отсталыми. На протяжении всего советского периода практиковалось повсеместное обрезание мальчиков, праздновался Навруз, сохранялось традиционное уважение к старикам и смешанные браки у узбеков были скорее исключением чем правилом, особенно для девушек. Но народ как коллектив уже не сопротивлялся усилиям метрополии по модернизации.
Что удивительно, с 1940-ых по конец восьмидесятых Средняя Азия оставалась самым стабильным советским регионом. Колыбель басмаческого движения, вооруженного сопротивления советской власти, не проявляла никаких признаков сепаратизма. Тут не было даже диссидентов (кроме депортированных крымских татар с очень конкретной аджендой), в то время как правозащитное движение было активно и славянских, и в прибалтийских и закавказских республиках.
* * *
Пока я занимался исследованиями для этой книги, я два года прожил в замечательной узбекской семье в одной старой махалле Ташкента – их там немного сохранилось. Они и их соседи сделали все чтобы мое пребывание в Ташкенте было приятным и продуктивным. Всем страшно нравилось что их историю их страны и их общества пишет американский историк. Меня регулярно звали на телевидение, на радио и в школы. У меня такое подозрение что это делалось потому что я проявил уважение и выучил язык, чего многие местные русские сделать не сподобились. Я помню свое первое восьмое марта в Ташкенте и как весело отпраздновала его наша махалля. Европейский социалистический праздник, созданный в Дании, адаптированный в Москве, ставший символом коммунистической власти, оставался популярным в независимом, пост-колониальном и в основном все-таки мусульманском Узбекистане. Но моим узбекским собеседникам это не казалось странным. Понятно что я общался в основном с образованными жителями большого города. Но все они – как женщины, так и мужчины – говорили о женском равноправии как о позитивном наследии советского режима. У них у всех были обоснованные претензии к метрополии – переориентирование экономики на хлопок, экологическая катастрофа повлекшая за собой исчезновение Аральского моря, сталинские репрессии, эксперименты с языком и письменностью. Но все неизменно говорили о худжуме с теплотой и гордостью. И то что сегодня подавляющее большинство женщин на улицах Ташкента ходит с открытыми лицами ни в коем случае не умаляет их национальной идентичности.
Правительство независимого Узбекистана решило пойти по пути Кемаля Ататюрка и взяло курс на формирование светского государства где религия является исключительно личным делом. Тут не обошлось без перехлестов. Вне закона была поставлена не только паранджа (чего не осмелилась сделать даже советская власть), но и бороды и чалмы обозначающие что человек съездил в хадж. Но теперь эти меры принимают не какие-то иностранные колонизаторы, а свое узбекское правительство. Чем они закончатся – покажет время.
На фото
1) Кадр из фильма “Ленинградцы дети мои” с Тамарой Шакировой в главной роли. Она заглядывает в теплушку с эвакуированными детьми.

2) Картина Ш. Гафурова “Яблоки 1945-го”